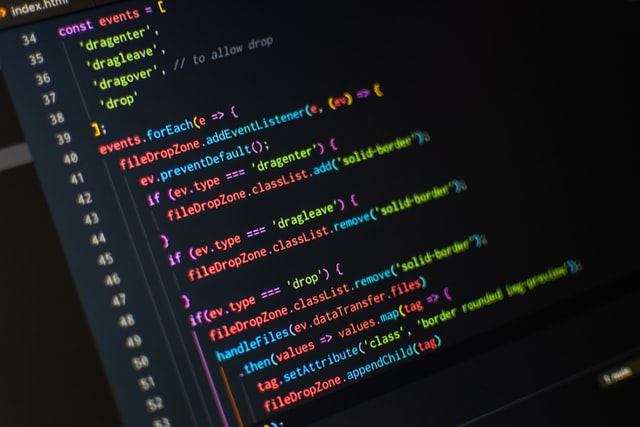19 April 2023
«Людей не запретишь!». Интервью с Александром Верховским, который отслеживает госборьбу с экстремизмом ещё с 90-х

Александр, расскажите, пожалуйста, нашим читателям, как появилась «Сова»? Кто и когда стал заниматься темами экстремизма и ксенофобии?
«Сова» является результатом разделения другой организации, а именно исследовательского центра «Панорама», который в том или ином виде существовал с 1989 года. Он делал разные вещи, связанными с общественной и политической жизнью: исследования, справочную информацию и т.п. Я сперва занимался в нём вещами, совершенно отличными от тех, какими занимаюсь сейчас, но с середины 90-х постепенно моими темами стали религия и политика и русский национализм.
В «Панораме» работало много людей, со временем организация стала разделяться на части. Одной из них и стала «Сова», её организовывали четверо человек, трое из которых были из «Панорамы». Изначально считалось, что мы будем работать над двумя темами: религиозной политикой государства и русским национализмом. В начале нулевых было много насилия со стороны радикальных националистических групп. Поэтому наша деятельность стала отличаться от того, что было в «Панораме»: мы больше исследовали не агитацию, а реальными уголовные преступления, которые люди тогда совершали сотнями.
У государства имелась политика, которая на тот момент ещё не называлась экстремистской, но была таковой по сути. Закон об экстремизме появился в 2002 году. Он воспринимался не революционной переменой, а очередным изменением законодательства, каких было много и до этого.
Но наш центр не был создан из-за закона, эти вещи происходили параллельно. Мы изучали определенные угрозы и то, как государство и общество им противостоят.
С течением времени экстремистским законодательством из-за того, как оно было сконструировано, стали пользоваться не по назначению, если говорить совсем просто. Нормы эти стали применять к группам и людям, которые не представляли общественной опасности, но они подходили по букву закона. Сначала это были единичные случаи, потом таких стало больше.
В результате на нашем сайте со временем появились три раздела: один по проблематике радикального национализма, второй про религию и общество и третий — про злоупотребления в антиэкстремистской политике государства.
Ещё мы в нулевые много занимались темой проявления этнической и религиозной нетолерантности в СМИ, тогда это было широко распространено.
Интересно, что создание центра и написание закона совпали по времени.
Да. В начале нулевых я написал книгу о том, как менялась госполитика относительно угроз, связанных с радикальных национализмом. И вот когда я её написал, внезапно — действительно внезапно — появился этот закон, который подвёл черту под предыдущими попытками кодификации законодательства. Закончился некий период.
А спустя 20 лет закончился ещё один период.
Когда именно он закончился, мы увидим с некоторого временнóго расстояния. В процессе быстрых перемен трудно оценить их масштаб. Во-первых, изменения продолжаются. Во-вторых, непонятно, где мы будем проводить границу через 10 лет.
Понимаю. Но всё-таки — какими были последние 20 лет относительно национальной политики? И предыдущие 20 лет, до 2002 года?
Национальная политика — не очень правильный термин. Под ней, как правило, понимают политику по отношению к этническому разнообразию. И этим мы не занимались. Мы занимались только радикальными вещами, связанными с насилием (его применение, обоснование, пропаганда). И этого было очень много.
С начала нулевых были видны две основные угрозы: вооружённая деятельность радикальных исламистов и насилие со стороны радикальных националистов. Именно в них государство видело основную угрозу снизу.
Кода приняли закон, некоторые правозащитники — нас, таких было немного — говорили, что формулировки слишком широки. Большинству же казалось, что нормы вполне адекватны времени. Важный момент, ныне подзабытый, — годами генералы разных ведомств говорили, что не могут бороться с экстремизмом, поскольку законодательства не хватает. И вот им сделали законодательство, которого для всего хватает. Необходимость всё списывать на нехватку нормативной базы исчезла. Огрубляя, можно сказать, что новая база стала годиться для всего на свете.
Поначалу злоупотребления были редки. Важно понимать, что правоохранительные органы — это машина. Не злокознённые люди, а люди на службе, у которых есть задания сверху, они по ним работают, отчитываются и т.д. У них были очевидные объекты борьбы, и эта борьба велась успешно.
В первые 10 лет с момента принятия закона основным объектом была насильственная активность снизу и в результате она стала сокращаться, сейчас количество насильственных преступлений ненависти на порядок меньше по сравнению с концом нулевых. Это несомненный успех полицейской работы. Но машина, разогнавшись, работает на отчётность. Это нормальная чиновническая жизнь, а не «люди плохие». Так всё устроено.
И когда уличные бойцы перевелись большей частью, количественные результаты стали падать — их нужно было чем-то восполнять.
Вообще оперативники неприязненно относились к преследованию за агитацию в интернете. Преступление — это убил, зарезал, ограбил. А интернет — непонятно что. И дело не в том, что полицейские — поклонники свободы слова, они просто не понимали, как это расследовать. Ситуация: оперативник приносит материал следователю, и тот должен понять, что это кейс, а не мусор. Дальше следователь идёт к прокурору, и прокурор должен это принять, но он не принимает. «Я не пойду с этим в суд, иди доделывай» — такое было сплошь и рядом.
Мы точно не знаем про сейчас, но думаю, что в нулевые (и отчасти в десятые) половина из уже заведённых дел по публичным высказываниям закрывались, не дойдя до предъявления обвинений. Потому что не удавалось их оформить. Так что это был ненужный мартышкин труд, правоохранители от него уклонялись. Но постепенно вырабатывались методики, расследования становились эффективнее. И дурные высказывания в интернете с успехом замещали убывающее количество насильственных преступлений. Перелом, хорошо видный на графиках правоприменения, произошёл в 2011-2012 годах. Тоже так совпало.
Далее, лет через пять, где-то наверху осознали, что происходит какая-то ерунда, а именно: сотни уголовных приговоров за пустяки. Да, за нетолерантные высказывания по ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти — прим.ред.), но не особо опасные: люди ни к чему не призывали, не вели систематической деятельности, не были влиятельными агитаторами; они что-то там репостили и о чём-то шутили, пусть часто глупо и этически предосудительно.
В какой-то момент, по нашему представлению, во второй половине 2017 года, было принято решение с этим заканчивать. Для этого применили ряд мер: сперва просто дали указания силовикам притормозить, потом придумали частичную декриминализацию ст. 282, инициировали вполне разумные разъяснения Верховного суда и т.д. Количество дел резко упало. Но преследование за высказывания не исчезло, а ушло отчасти в другие статьи, отчасти — в раздел административных санкций. Государство сменило парадигму: за действия, потенциально — опасные, но актуально — не очень, стало наказывать мягче, но шире. Административок стало гораздо больше.
И так это и сейчас, если посмотреть, административки исчисляются тысячами, а уголовки — десятками, пусть по некоторым статьям — многими десятками. Общий подход, избранный пять лет назад, таким и остаётся.
Конечно, за все эти годы по-разному практика менялась: по одним статьям так, по другим — этак. Не буду вдаваться в подробности. В целом можно сказать, что после резкого падения числа уголовных преследований за слова в 2019 году (плоды упомянутой частичной декриминализации) график пошёл вверх и продолжает идти вверх стабильно. Да, в основном это касается интернета, но не потому, что государство любит или не любит Сеть, а потому что где ещё людям высказываться?

Получается, работа правоохранительных органов дала плоды и в реальной жизни?
Да, конечно. Раньше радикальные националисты любили говорить о «русской статье» и тысячах политзаключённых, но это было откровенным враньём, потому что по ст. 282 реальные сроки давали очень редко. И сейчас редко. Тысячи севших — это люди, которые сели не за высказывания, а за реальные насильственные преступления. За высказывания тоже судили (за подстрекательство, например), но реальные сроки давали и дают редко.
Иное дело — статья о призывах к терроризму, она более тяжёлая. Да даже просто формально там пороги наказаний другие.
А где вообще проходит водораздел между допустимым привлечением к ответственности за слова и свободой слова?
Есть Конституция, международное право. Из Совета Европы мы вышли, но из ООН — нет, поэтому Международный пакт о гражданских и политических правах (МПГПП) — по-прежнему источник права для России. Не основной, но всё же. И вот в нём написано, что свобода слова, как и все другие гражданские свободы, не является абсолютной, в отличие, скажем, от запрета пыток. Ограничения сходным образом установлены и в МПГПП, и в Конституции РФ, и это признано современными европейскими обществами.
МПГПП ограничивает так, что не вдруг поймёшь, где эта граница проходит. Тем не менее у юридического сообщества есть устоявшийся подход.
Так, Комитет по правам человека ООН (его решения — мягкая норма права для нас) и наш Верховный суд разъясняли, что, во-первых, свобода слова может быть ограничена, во-вторых, ограничена законом, причём закон должен быть сформулирован понятно для граждан, и, в третьих, ограничение должно быть пропорционально цели, а не какое угодно. Последним двум критериям не очень соответствуют наши законы, я бы так сказал. Некоторые совсем никак не соответствуют, но это то, к чему нужно стремиться.
Самый сложный пункт о том, что ограничение должно быть пропорциональным реальной проблеме, ради которой оно вводится. И угроза — да даже сложно определимой общественной нравственности — должна быть очень серьёзной, чтобы применить именно уголовное преследование. Это всё-таки наивысшая форма ограничения.
Как понять, когда проблема настолько серьёзна? Для этого существует шестичастный тест — набор критериев, который позволяет судье (в идеальной ситуации, когда суд что-то решает) оценить, что перед ним — преступление или предосудительное поведение, которое не заслуживает преследования в уголовном порядке.
По этому тесту высказывание должно, во-первых, нарушать букву закона. Если у нас запрещены призывы к свержению правительства, то высказывание должно содержать именно призыв к свержению правительства, а не туманный намёк на это. Во-вторых, высказывание должно быть сформулировано как призыв, а не как шутки, которые часто бывают. Различить может быть не просто, но суд на то и суд. В-третьих, важно, кто делает высказывание, насколько человек влиятелен, какова его аудитория (и вот это сравнительно легко измерить в интернете), из кого она состоит (может быть, призывать её свергать правительство абсолютно бесполезно, или, наоборот, ей только скажи, она всегда наготове). В-четвёртых, важно, в какой ситуации это делается. Может быть, это происходит во время беспорядков. Есть кейс, когда в Великобритании человек получил уголовный срок именно за высказывание во время беспорядков, хотя прямых призывов оно не содержало. А если бы это было в другое время, то ничего бы ему не было. Также одна из самых проблемных вещей — призыв к этнической или религиозной вражде. Тут сильная зависимость от объекта. Какой-то объект вражды актуален, какой-то нет, и можно сколько угодно возбуждать вражду, никого это не интересует. Ну и так далее.
Вот такие вещи должны приниматься во внимание и помогать отделить неприятную нам болтовню (а кому-то — приятную, это дело вкуса уже) от преступления. Ну и, конечно, наказание должно быть пропорционально деянию.
Так должно быть устроено, но практика всегда сложней. И реальная практика сложна не только у нас. Например, в США всё определяет Первая поправка к Конституции. В Европе же люди делегируют государству ограничительные функции. И я считаю, что это скорее хорошо. Не потому что я враг свободы слова, а потому что ограничительные функции есть всё равно, и на примере США мы видим, как не делегированные государству функции реализуются другим способом. И это никому ничуть не приятнее. Может быть, даже наоборот. А вот в Европе принято иначе, причём в разных странах по-разному. Везде, впрочем, свои проблемы. У нас особенно много проблем, конечно.
Если рассматривать конкретные нормы… Самый простой пример и самый массовый в уголовной практике сейчас — ст. 280 УК РФ, призывы к экстремистской деятельности. Как человек должен понять, какие его высказывания являются призывами к экстремистской деятельности? Он должен взять закон и прочесть определение этой деятельности, которое занимает страницу текста и во многих местах не очень-то понятно. Так что это пример плохой нормы закона, которая не может применяться хорошо.
К вопросу о мировой практике. Экстремизм и ксенофобия — болезненные темы для России или не болезненней, чем для других стран?
Невозможно сравнивать ксенофобию в целом, ситуация везде разная по разным ее видам. Самый очевидный пример — масштаб антисемитской активности. Франция и Россия — небо и земля в этом вопросе. У нас тишь и гладь. Разница огромна, даже не на порядок, а больше. Но в каких-то других случаях соотношение будет обратным. А нормы международного права универсальны. Нет же отдельного закона против антисемитизма, антицыганизма, ещё чего-то. Но насколько применение на практике будет пропорционально реальным угрозам? Отчасти это всегда политический вопрос, отчасти — вопрос предрассудков в правоохранительной среде, отчасти это зависит от того, что им проще, в конце-то концов (вопрос отчётности никто нигде не отменял). Плюс политический заказ сверху. Специально ставлю его не на первое место, потому что по количеству того, что продуцирует вал дел, он реально не на первом месте.
Если дела исчисляются штуками, легко сказать, что это политический заказ. Хороший пример — люди любят говорить, что в Европе и у нас криминализировано отрицание Холокоста, и это подозрительная избирательность законодателей. Но на самом деле нигде в Европе в УК нет специальной нормы об отрицании Холокоста. Везде, в том числе у нас, формулировки носят более универсальный характер. А вот применяться эта норма будет по-разному. И поскольку эти законы — так называемые законы об историческом ревизионизме — политические по сути, дела по ним носят показательный характер. В России они исчисляются штуками, во Франции бывают не каждый год, хотя этих ревизионистов там прорва страшная. Государство не стремится пойти и всех наказать. Оно делает это точечно, и это — политическое правоприменение. Я не считаю, что это хорошо, это то, какова реальность.
Другое дело, что к механизму, который с самого начала ориентирован на политическое правоприменение, можно приделать дополнительные детальки.
Так наша ст. 354.1 УК (реабилитация нацизма) разрослась непредсказуемым образом. Сначала туда попала клевета на политику СССР во время Второй Мировой войны. Потом добавили осквернение дат и символов воинской славы, и не очень понятно, как это соотносится с первым, поскольку воинская слава России Второй Мировой не ограничивается.
Список дат у нас есть. Когда я его прочёл, я понял, что некоторых дат просто не знаю. Думаю, среднестатистический гражданин тоже не все их знает. А вот списка символов нет вообще. А дела есть. Опять вопрос — как человек должен понять, что он осквернил символ воинской славы? Непонятно. Потом добавили высказывания, так или иначе задевающие ветеранов…
Какова ваша аудитория? И куда направляются ваши доклады? Например, государству?
Мы были бы очень рады, если бы государство внимательно читало наши доклады, но боюсь, что теперь это происходит всё реже. Хотя раньше некое взаимодействие было. Сейчас по понятным причинам оно стало гораздо хуже.
Мы пишем сложновато, для людей, которым специально хочется разобраться, что не так по нашим темам. Сайты, которые пишут о репрессивной политике, есть и без нас. Например, «Роскомсвобода» на это смотрит под своим углом. А мы смотрим, как должно было бы быть, если бы мы жили в демократическом государстве. Понимая при этом, что нет идеального демократического государства, в таковых существует огромный разброс законов и практик относительно ограничения гражданских свобода во имя безопасности. Как используют эти ограничения у нас у нас — где-то во благо, где-то во зло, где-то по дурости — и составляет предмет нашего интереса. Мы пытаемся объяснить тем, кто готов вникать, разные сложности.
И если мы хотим, чтобы практика менялась, придётся вникать и дискутировать в рамках того, что у нас есть. Существующий политический режим не исчезнет вдруг, поэтому практику надо строить на том, что есть. С чистого листа ничего не бывает, если только не случится какой-то вселенский катаклизм. А так любые изменения отталкиваются от того, что есть. И вот мы разбираемся в вопросе, как то, что есть, должно меняться.
Опыт показал, что силовики не лишены здравого смысла и изменения возможны и в существующей конфигурации. Сейчас меньше, чем в 2017-18 годах, конечно. Если политическая конфигурация изменится (неважно как) и станет больше возможностей, эти возможности не будут абсолютными. Хотя бы потому что представления об идеале у всех разные. Всё равно потребуются дискуссии о том, как обустраивать общество.
Я бы сказал, это оппортунистический подход к делу: нельзя сказать, вот он идеал, мы сейчас к нему придём. Так не получится: возможно, это только мой идеал, а ваш — какой-нибудь другой. Как мы к нему тогда отправимся? Кроме того, и бразды правления нам никто не вручал.
Наша задача скорее — устранение наиболее вопиющих неправильностей в законодательстве и практике. Потом — с появляющимся опытом устранение следующих вопиющих неправильностей. И так далее. А ещё мы не можем знать, как будет развиваться жизнь через 10 лет. Может, там будут такие угрозы, о которых мы даже не догадываемся. Как общество будет реагировать на них? Не пожелает ли немыслимых ограничений? Не начальники в Кремле, а именно общество. Запрос снизу на ограничения очень даже легко представить.
Поэтому идеалы я бы не стал строить. Хочется донести до аудитории, желающей разобраться, что разбираться придётся в частностях. «Давайте всё отменим» — вариант, но на этом месте немедленно появятся другие нормы. Немедленно. Если есть объект регулирования, значит, будет само регулирование. Не такое, так этакое. Но оно обязательно будет.
Каков у «Совы» опыт успешных практик, успешного влияния?
Такой опыт был за все эти годы, конечно, но с ним всё тяжелей и тяжелей. Последний предмет гордости, который, правда, власти нам испортили, следующий. Есть Свидетели Иеговы, их преследуют за то, что они состоят в организации, признанной экстремистской без всяких на то оснований. Они собираются и молятся, больше ничего не делают. Но, поскольку они собираются, это рассматривается как факт собрания запрещённой организации — готовый состав уголовного преступления. Вроде бы очевидно, что экстремизмом они не занимаются, но по букве закона непонятно, как это обойти. Нам удалось добиться, чтобы Верховный суд в 2020 году принял странно звучащее решение о том, что если организация не функционирует и люди занимаются только религиозной деятельностью, то это не является преступлением. Вообще это казуистика, потому что отличить одно от другого практически невозможно, но тем не менее, на основании этого решения Верховного суда был вынесен ряд оправдательных приговоров. Это было незначительное для общего потока меньшинство, но оно было. Другое дело, что прокуратура не смирилась, обжаловала эти приговоры, и на данный момент все они отменены, кроме, кажется, одного. Постепенно эту победу у нас отыграли назад.
К сожалению, когда есть установка на репрессивность и расширительное толкование норм, с высоты птичьего полёта подобные успехи малозаметны. Впрочем, для конкретных людей они очень даже заметны.
Чего же всё больше у нашего государства — репрессивной политики или продуцирования отчётности?
Нельзя отделить одно от другого. В прошлом году, с 24 февраля все, понятно, стали нервными и стали куда резче высказываться в интернете. Общая резкость сильно возросла. И людей, по букве закона подпадающих под статью о призыве к экстремизму, а то и терроризму, стало больше кратно. Любое государство, хорошее и плохое, увидев такую картинку, захочет как-то отреагировать. Наше реагирует тем, что начинает наказывать чаще. Это не всегда самое разумное решение с точки зрения умиротворения вверенного ему населения, но это то, что наши чиновники обычно делают, если не задумываются всерьёз. И это то, что стало происходить. По статистике МВД, дел по призывам к терроризму стало на 40% больше, чем годом ранее. Это порядочный прирост. Скажу по опыту, что в подавляющем большинстве дел действительно, если по букве сделанного высказывания, содержался призыв к насильственным действиям: убить, сжечь. Но человек просто выплёскивал эмоции. Однако через какое-то время это становилось составом уголовного дела. Является ли это разумной политикой государства? Я думаю, что нет. Является ли это пропорциональной реакцией? Как правило, тоже нет. Да, разумеется, есть люди, которые призывают к саботажу, подрыву. Но большинство дел — про людей, которые что-то написали сгоряча. Представляло ли это такую общественную угрозу, чтобы ФСБ месяцами вело дело и доводило человека до серьёзного наказания? Непохоже.
И вот это что — политическая установка на репрессии или борьба за отчётность? Непонятно. Это встречное движение начальников и подчиненных. В большинстве случаев правоохранители дела не выдумывают (бывает и такое, конечно), они эти дела раздувают. Да, большинство дел — это раздутые дела, а не придуманные.
Репрессивность — как бы неотъемлемая, встроенная характеристика госуправления, получается.
Правильно. Политическое руководство считает, что какой-то уровень репрессий необходим для поддержания контроля. А люди, которым это поручено, это сотрудники правоохранительных органов, что ещё они должны делать? Они не могут ходить и увещевать граждан, это не их работа, поэтому они преследуют.
По крайней мере, они могли бы не раздувать эти дела.
Могли бы, совершенно верно. Но если Президент на совещании говорит, что перед нами угроза, что ответит начальник МВД? Что будем бороться с этой угрозой. А как ещё ведомство умеет бороться? До тех пор, пока его будут стимулировать таким образом, отчётность будет идти по нарастающей. Конечно, ещё силовики могли бы руководствоваться не политическими указаниями, а верным и нюансированным пониманием права, но, боюсь, этого пока ждать не стоит.
Спад дел после декриминализации ст. 282 показал, что, если политическое руководство говорит, мол, всё сворачиваемся, выясняется, что наращивать отчётность уже не нужно, за это больше не ругают, и показатели беспроблемно снижаются. Но такой сигнал должен быть послан сверху.
В контексте государственных механизмов не могу не спросить про Совет по правам человека при Президенте РФ. С 2012 года до 2022 года Вы состояли в нём. Получилось ли чего-то добиться через этот институт?
В демократическом государстве такой институт просто не нужен. Но мы живём не в демократическом государстве. Поэтому для соблюдения прав человека недостаточно регулярных механизмов. Потому что регулярные механизмы работают плохо или не работают вообще. И вот возникают костыли. Но лучше, когда они есть, чем когда их нет. Эффективность СПЧ даже в лучшие его годы была не очень. Трудно её измерить, но всё же.
А лучшие годы — это какие?
Скорее нулевые, когда явная необходимость в СПЧ была уже, а диалог был возможен — ещё. Причём диалог многоплановый. СПЧ — это самая разная работа, а не встреча с Путиным раз в год.
С годами СПЧ становился всё менее эффективным. Я пришёл туда в 2012 году, и дальше видел, как коэффициент полезного действия падает. Хотя зависело от темы. Я интересовался в первую очередь гражданскими правами, и по ним работать сложнее всего, потому что власти воспринимают этот вопрос политизировано. А если беспокоиться о социальных правах, например, о доступе к здравоохранению — это совсем другое дело. Эффективность здесь будет гораздо выше, потому что нет тормоза в виде опасения властей по поводу политического влияния. И это и сейчас так.
СПЧ всегда формировался из людей разных взглядов, там не одни сторонники либеральной демократии были, сейчас тем более. Поэтому инициативы, исходящие оттуда, тоже могут быть разными. Порой слышу совсем дикие вещи, но они и раньше случались. Теперь просто пропорции изменились.
Да, действительно, права человека в России все понимают по-разному.
С тех пор, как концепция прав человека (или хотя бы это словосочетание) стала популярной, так стали называть что угодно. Можно сказать, что у нас есть право на комфортные прогулки по тротуару. То есть можно придумать какое-то право и начать его обсуждать :)
В последнее время из СПЧ идёт много инициатив по ограничению прав трудовых мигрантов. Не сомневаюсь, что они объясняются защитой прав граждан.
Когда предлагается что-нибудь урегулировать в интернете (для этого в СПЧ есть специальный человек), это также объясняется защитой, например, безопасности граждан. Как же без этого. Трактуют, как хочется, в общем.
В такой ситуации особенно ценна работа специалистов, которые глубоко копают, как например, «Сова». Кстати, прослеживается ли какая-то логика в ликвидации правозащитных организаций? Имею в виду не репрессии вообще, а именно этот вид преследования? Можно ли «предсказать», кто будет следующим?
У меня нет инсайдерской информации, как эта политика формируется. Но многолетнее наблюдение подсказывает, что репрессивная политика к мало-мальски заметным объектам нарочито строится непредсказуемым образом.
Страной на разных постах руководят люди, которые вышли из спецслужб. Они подобные программы планируют как сложную спецоперацию с долей необходимого дезинформирования противника. И у них это отлично получается. Действительно, невозможно никогда предсказать, что произойдёт в следующий раз. Почему одна организация может годами функционировать и не назначаться «иноагентом», а другая — назначается быстро. В своё время было «модно» обсуждать в НКО-среде: почему вы «агенты», а вы не «агенты».
Помню, нам долго предъявляли — мы сравнительно поздние «иноагенты», с 2016 года — почему вы до сих пор не «иностранные агенты»? Да нипочему, не надо придумывать сложные схемы.
Схема, по которой закрыли МХГ (неокончательно, впереди апелляция), уже приняли решение по организации «Человек и закон» и собираются закрывать нас, сравнительно новая. Так пробовали и раньше, но отступались. Потому что безумное обвинение — деятельность вне своего региона — можно предъявить тысячам региональных организаций. Это самая популярная форма НКО в России. И уж, конечно, многие делали что-то вне своего региона. И никогда это никого не волновало. Да и сейчас не волнует.
Но у всяких политически мотивированных новаций в решулировании всегда может оказаться побочный эффект. Понятно, что есть политическая задача — закрыть какое-то количество правозащитных организаций в порядке постепенного наращивания давления. Но когда выяснится, что таким образом можно закрывать НКО, то любой чиновник может попросить местного прокурора закрыть неугодное ему НКО. Потому что такое нарушение найдётся легко и просто, не нужна никакая сложная проверка. Вы съездили в соседний регион — до свидания. И так почти наверняка и будет, потому что если ты создаёшь машинку, дальше она едет сама, пока кто-то специально не остановит.
Власти ссылаются на закон, принятый в 90-х, там действительно написано, что региональные организации действуют в своём регионе, межрегиональные — в нескольких, всероссийские — по всей России. Вопрос: кто же ездит на конференции ОБСЕ, как вменяется нам? Получается, только международные организации, даже всероссийские не могут. Конечно, эту норму никогда так буквально не понимали. А тут вдруг раз — и пожалуйста.
Это напоминает начало 2000-х, когда похожий фокус называли «диктатурой закона», заключавшийся в том, чтобы найти на неприятного тебе человека или организацию такой закон, который все подзабыли, и применить. Кажется, канал ТВ-6 так закрывали. Канал закрыли, закон потом отменили, и это был единственный случай его применения.
«Итальянская забастовка» наоборот какая-то.
Да, фраза «друзьям всё, врагам закон» проявляется самым буквальным образом :)
Каковы ваши шаги на данный момент или что будете делать, если «Сову» ликвидируют?
Пока ничего особенного нам делать не надо. Ещё даже не было судебного заседания. Потом будет апелляция — процесс длится долго. Поэтому пока действуем как действуем. Если и когда станет ясно, что не будем работать как нынешнее НКО с длинным названием, сотрудники решат, в какой форме кто что хочет делать. Но все мы не уйдём скоропостижно на пенсию, в этом я не сомневаюсь.
Да. Саму деятельность запретить невозможно.
Людей, скажем так, не запретишь. А организаций мало ли ликвидировали, это не значит, что жизнь останавливается.
Это точно. Последний вопрос. В других интервью видела, что вы и ваши сотрудники не намерены покидать России. Хотя нет необходимости обосновывать желание остаться в своей стране, расскажите, что вы отвечаете тем, кто рекомендует уехать? Наверняка такие есть. И почему оставаться — важно?
Это индивидуальная вещь, сотрудники «Совы», наверно, отвечают разное.
Я обычно говорю, что, как правило, объяснение требуется для того, чтобы что-то сделать, а не для того, чтобы чего-то не сделать. Если бы я собирался ехать, мне требовалась бы мотивация. А так я живу здесь 60 лет и собираюсь жить дальше. Да, есть трудности, но я ещё советскую власть застал, так что знаю, что трудности присутствуют постоянно. А дальше посмотрим, я не обязан ни за что поручаться. Но пока уезжать я не собираюсь.
👉 «Сова»: преследование за слова по большей части части происходит в интернете
👉 «Сова»: «дискредитирующие» материалы — не клевета, а политическая критика
Similar articles
Our newsletter
The main news of the week in the field of law.
Contacts
18+
On December 23, 2022, the Ministry of Justice included Roskomsvoboda in the register of unregistered public associations performing the functions of a foreign agent. We disagree with this decision and are appealing it in court.